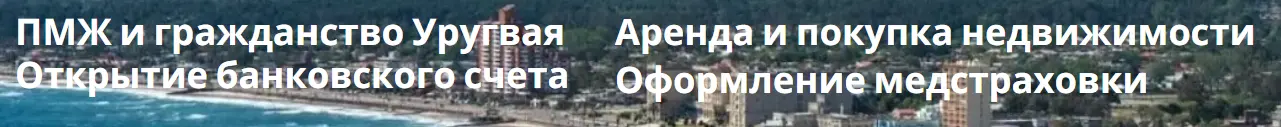Полное интервью с Хавьером Милеем на обложке The Economist: «Лихо - единственный, кто специализируется на наркотрафике и наркотерроризме».
Новости Аргентины

Президент Хавьер Милей попал на обложку известного британского журнала The Economist, дав обширное интервью, которое было опубликовано в воскресенье. В ходе интервью президент поделился своими основными идеями, среди которых он вновь обрушился на государство, которое он назвал «жестокой преступной организацией», живущей за счет налогов; он рассказал о первом годе своего правления и вновь задал вопрос о традиционных СМИ. «Он также рассказал о своих отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом и заявил, что правительство Джо Байдена не ответило на звонок послу Херардо Вертейну. Президент заявил, что теперь отношения с Соединенными Штатами «гораздо глубже» и что это отражается и на переговорах с МВФ. «Это заметно по разнице между некоторыми чиновниками Фонда, которые раньше были жесткими, а теперь стали очень послушными». Он также отметил отношения с Китаем. «Они превосходны», - сказал он. «Он также защитил кандидатуру судьи Ариэля Лихо в Верховном суде, сказав, что это человек, который может «реформировать изнутри», и что он единственный специалист по наркоторговле и наркотерроризму. «The Economist": Я хочу начать с того, что во всем мире сейчас очень трудно сократить размеры государства. Но в Аргентине вашему правительству это удается. Я хочу спросить: в чем секрет вашего успеха? «Хавьер Милей: Существует философская основа. То есть, не считая ограничений, которые можно иметь в краткосрочной перспективе, я все равно считаю государство жестокой преступной организацией. Оно живет за счет принудительного источника дохода, называемого налогами, которые являются пережитком рабства, и чем больше размер государства, тем больше ограничиваются свобода и собственность. Следовательно, это север. Кроме моей анархо-капиталистической философии, которая подразумевает ликвидацию государства. Но это теоретический, философский подход. В реальной жизни, допустим, я минархист. Поэтому все, что я могу сделать, чтобы устранить вмешательство государства, я сделаю. Это концептуально. Но есть и реальность, с которой мне приходится иметь дело. Бюджетный дефицит Аргентины составлял 15 пунктов ВВП. 5 приходилось на казначейство, 10 - на Центральный банк. А инфляция составляла 54% в месяц, другими словами, что-то около 17 000% в год. Таким образом, если бы я не сделал что-то очень резкое, то в итоге получил бы гиперинфляцию. А это означало, что нужно было что-то резко предпринять как в казначействе, так и в Центральном банке. Потому что не было доступа к финансированию и не было спроса на деньги. Мы уже были на грани катастрофы. Фактически Аргентина объединила в себе худшие элементы трех самых страшных аргентинских кризисов в истории. В Эль-Родригасо у нас был денежный профицит, который был в два раза больше. Положение Центрального банка, с точки зрения соотношения процентных обязательств и денежной базы, было хуже, чем перед гиперинфляцией 1989 года. А социальные показатели были хуже, чем в 2001 году. Таким образом, были созданы все условия для гиперинфляции, когда ВВП упал примерно на 15%, а 95% населения жило в бедности. Еще один элемент - и я думаю, что это связано с моим процессом принятия решений и тем, как я принимаю решения, потому что в этой линии есть два уровня. Первый - это то, что я знаю, что делать, как делать, и у меня есть смелость это сделать. Потому что иногда есть люди, которые знают, что делать, может быть, они не знают, как, другие знают, как, но чего у них нет, так это смелости, чтобы сделать это наверняка. И тогда дело в мужестве. Весь спор - это то, что ведет на другую сторону. Поэтому второй аргумент в этой плоскости - откуда берется смелость. Она берется из двух вещей. Первая - потому что это часть моей природы. То есть на протяжении всей моей жизни мои решения принимались с долей мужества. Кто-то может даже подумать, что я безрассуден. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что я воспринимаю это как работу, в буквальном смысле. Если я воспринимаю это как работу, то у меня есть должностная инструкция, согласно которой меня попросили снизить инфляцию и покончить с отсутствием безопасности. И я покончил с инфляцией, и мы уничтожили отсутствие безопасности. И более того, я очень последовательно выполнял свои предвыборные обещания, потому что, как я уже сказал, моя кампания была посвящена экономическому уровню, бензопиле, что мы, безусловно, сделали. Конкуренция валют, которая на самом деле уже начала работать. Сегодня вы можете совершать сделки в любой валюте. Что касается безопасности, я сказал, что тот, кто делает деньги, платит, что мы и делаем. А в моей международной политике - союз с Соединенными Штатами и Израилем, что мы также делаем. Так что никто не может быть удивлен тем, что я делаю, потому что я обещал это во время предвыборной кампании и я это делаю. Я приведу еще один пример, который поможет вам понять, как я смотрю на вещи. Когда я гулял по Оливосу с Альберто Фернандесом, который показывал мне объекты, Фернандес сказал мне, что он чувствует себя как аукционист, показывающий дом новому владельцу. А я сказал ему: «Стоп, я не новый владелец. Я новый арендатор на четыре года с возможностью продления на восемь. Поэтому, принимая решения, я не руководствуюсь политическими расчетами, а исхожу из того, что мне нужно делать. А это не так уж и мало. Если бы это было не так, я бы не стал проводить многие из тех дискуссий, которые я проводил и которые, скажем так, сегодня являются основой уверенности, потому что мне было что терять и нечего приобретать, и все же я сделал это, потому что это было правильно. «The Economist»: С вашей точки зрения, есть ли там какие-то уроки, которые можно применить в других частях мира? Или Аргентина - настолько уникальный случай, что уроки не могут быть применены в других странах? Хавьер Милей: Да, есть много вещей, которые могут быть применены. Ведь мы не только сократили дефицит казначейства и навели порядок в банке... и навели порядок в Центральном банке. У нас также есть программа дерегулирования и структурных реформ. Фактически, между Основным законом и первоначальным ДНУ, 70 2023 годом, мы провели 800 структурных реформ. То есть это структурная реформа, в восемь раз превышающая то, что сделал Менем за свои 10 лет, что было самой большой структурной реформой в истории Аргентины. И мы сделали это менее чем за шесть месяцев, получив 15 % голосов в Палате депутатов и 10 % в Сенате. Но у нас также есть программа дерегулирования, в рамках которой мы каждый день что-то отменяем. И нам еще предстоит провести 3200 структурных реформ. Так что я бы сказал, что вся эта часть легко экспортируется. И на самом деле, сам Элон Маск с Вивеком просто, скажем так, импортируют эту часть, верно? А это значит, что нужно убрать регулирование и устранить весь этот клубок препятствий, мешающих функционированию государства. И, конечно, есть еще вопрос о сокращениях. Это вопрос внутренней политики, и он также связан, скажем так, с тем, насколько сильно вы презираете государство. В моем случае мое презрение к государству безгранично. The Economist: И эти разговоры с Элоном Маском уже начались? Об уроках Аргентины, например? «Хавьер Милей: Просто сам Элон Маск, скажем так, пишет..... Он активно следит за аргентинским делом. Кроме того, я дал ему контакты наших министров. Так вот, потом он встретится с Вивеком, фамилию которого я не буду называть, потому что не помню. Я не могу ее вспомнить. Но я встретил его на CPAC. Мы поприветствовали друг друга и все такое. Так что я бы сказал, что эта модель приближается. На самом деле, в Японии ее уже применяют. Итак, реальность такова, что идея внешнего мира пришла. Вопрос в том, как проводить фискальную корректировку. Это не одно и то же, если фискальная корректировка осуществляется путем повышения налогов, а не путем снижения расходов. И это не одно и то же, какие расходы вы сокращаете. Я имею в виду, мы... Смотрите, мы временно повысили налог на прибыль и отменили его в сентябре, а теперь в декабре закончим его отменять. Но посмотрите на это, что очень интересно: сокращение расходов, где оно сказалось? Оно повлияло на политику. Потому что мы вдвое сократили структуру государства, ликвидировали общественные работы, отменили дискреционные трансферты провинциям, сократили государственных служащих, подавляющее большинство истекающих контрактов не было продлено. А еще мы устранили посредничество в управлении социальными программами, и это было очень важно. Потому что в самом начале мы смогли удвоить средства, которые получали семьи, не увеличив ни одного песо государственных расходов, потому что мы убрали посредников из середины. И это не маловажно, потому что люди получили вдвое больше средств, не потратив ни песо больше. В реальном выражении мы удвоили базовую корзину товаров и услуг, потому что следующий человек покрывал половину, а мы - 100%. Но это уже детали, я бы сказал, двадцать пятого порядка. Но важно то, что в самый тяжелый момент, а это был первый квартал, люди нашли сдерживающий фактор, затем в апреле экономика вышла на плато, а в мае начала взлетать. Сегодня, если взять цифры за третий квартал, экономика выросла на 3,4 %, а в годовом исчислении - на 14 %. И есть те, кто говорит: «Нет, все идет медленно». Что ж, больше не надо, если это медленно..... Очень хорошо. «The Economist»: Я немного размышляю об отношениях с Дональдом Трампом, что очень интересно. Как конкретно администрация президента Трампа поможет Аргентине? Хавьер Милей: Ну, в принципе, у нас очень хорошие отношения с главными фигурами в его кабинете. Так что у нас прекрасные отношения. Кроме того, между нами очень хорошие чувства. У нас хорошие отношения. И правда в том, что он был очень щедр со мной. И еще он четко осознает, что когда его никто не поддерживал, я был единственным, кто поддерживал его. Так что это... Очевидно, что наши отношения значительно улучшатся. На самом деле, администрация Байдена, в то время как она даже не брала трубку моего посла, который теперь является моим канцлером, сегодня мой канцлер поддерживает связь со всеми министрами, со всеми секретарями. Да. Из... администрации Трампа. И тогда... очевидно, что отношения стали намного глубже, и мы, несомненно, сможем продвинуться вперед в плане торговых и финансовых связей». „The Economist“: Есть ли надежда, что это изменит ситуацию, например, с МВФ? »Хавьер Милей: Безусловно. На самом деле, вы можете увидеть это в дифференциации некоторых чиновников Фонда, которые раньше были грубыми, а теперь стали очень послушными. «The Economist»: Еще один вопрос о Трампе. Вы либертарианец, и ваше правительство способствует развитию торговли в Аргентине, верно? Для импортеров, для экспортеров. Дональд Трамп хочет повысить тарифы в США... «Хавьер Милей: Это, это, допустим... есть... Я с большим отрывом отношусь к тому, что говорит и делает Трамп, и к тому, как об этом пишут СМИ. Самый яркий пример - когда он был президентом и повысил тарифы на Китай. И это не было протекционистской мерой. Это неправильное понимание того, как устроен мир. Мир появился в результате кризиса субстандартного кредитования. Который в литературе был известен как проблема «избытка сбережений» или другое название - проблема глобального дисбаланса, который заключался в профиците текущего счета Китая, дисбалансе текущего счета США и нейтральной Европы. Таким образом, это не проблема того, что... Трамп - протекционист, это проблема того, как он реагирует на китайскую политику, китайскую монетарную политику, политику обменного курса. Поэтому мне кажется, что одно дело - как работает экономическая политика, другое дело - что пишут СМИ, которые презирают Трампа. Это, скажем так, совершенно разные вещи. Потому что я страдаю от этой лжи каждый день. Более того, скажем так, нелепость и ложь, которую умудряются нести СМИ, действительно вопиющая. На самом деле, они даже клеймили меня нацистом. Вы читаете СМИ в Аргентине, и 85% того, что вы находите, - ложь... «The Economist»: Что в Аргентине представляет наибольшую угрозу для достижения и поддержания трансформации государства и экономики, которую вы хотите? «Хавьер Милей: Политическая партия, каста. И именно они угрожают этому, потому что они проигравшие во всем этом. Другими словами, каста состоит, скажем так, из коррумпированных политиков, из коррумпированных журналистов, из коррумпированных бизнесменов, из коррумпированных профсоюзных деятелей, а также из профессионалов, которые функционируют в рамках касты. The Economist: Вы несколько раз говорили, что песо сейчас не переоценен. Если фундаментальные показатели поддерживают этот уровень, почему бы вам не отменить cepo [контроль за движением капитала] сейчас? Может быть, дело в том, что есть недобросовестные участники или в том, что вас беспокоит? Хавьер Милей: У меня есть проблема с запасами, которая еще не решена. Иными словами, первый вопрос заключается в том, каким образом можно добиться повышения обменного курса. Так, например, упражнение по повышению обменного курса заключается в том, что вы устанавливаете обменный курс, выпускаете деньги, затем цены начинают расти, и, поскольку счета внешнего сектора ухудшаются, рано или поздно вам приходится девальвировать. И это будет случай... «Мы не выпускаем деньги. Если мы не выпускаем деньги, откуда вы возьмете этот процесс? Когда вы смотрите на серию, вы смотрите на серию обменных курсов с 2003 года. То есть вы смотрите на него после того, как произошел скачок обменного курса. Если вы посмотрите на серию с 1991 года, то обменный курс должен быть 600, а если вы посмотрите только на 1990-е годы, то он должен быть 400. Если вы понимаете, что все зависит от того, где они сокращают серию, как они ее используют. Они даже не учитывают эффект от повышения доверия и притока капитала». „Проблема в том, что другие не могут объяснить, почему валюта действительно растет, помимо фрагментарного индикатора, который они используют“. «The Economist: Я прекрасно это понимаю. Меня поражает то, что люди говорят мне, что в декабре реальный обменный курс был более или менее на том же уровне, что и сейчас. «Хавьер Милей: Нет, номинальный обменный курс тот же. Он гораздо шире. «Экономист»: Я имею в виду реальный многосторонний. В декабре он был более или менее таким же, как сейчас. А потом вы провели девальвацию. Что в середине .... «Хавьер Милей: Нет. Мы не девальвировали. »Потому что вы говорите..... Я не верю в аргумент, что мы девальвировали. Если бы у вас был разрыв в 200%, другими словами, у вас был бы один чиновник и один..... Другими словами, цены по текущему курсу. Официальных цен не было. Не было долларов по официальному курсу. Или откуда, по-вашему, взялся долг CIRA в 50 миллиардов долларов и дивиденды в 10 миллиардов долларов? Другими словами, у вас была проблема в 60 миллиардов долларов. Это ложь. Но такого обменного курса не существовало. «The Economist»: То есть все было так же, как и сейчас. «Хавьер Милей: Именно так. То есть мы сделали переменные искренними. Эта девальвация уже была. «Экономист»: Я хочу спросить немного об институтах. Вы уже упомянули об этом. Сдержки и противовесы власти, независимая судебная система, безусловно, важны для демократии, но они также могут немного замедлить реформы, не так ли? Это делает их немного сложнее. Вас как-то беспокоит этот компромисс? Хавьер Милей: Я играю по правилам, которые были согласованы. То есть, если вы посмотрите, я ни на миллиметр не отступаю от правил, оговоренных в Конституции. «The Economist": Но не считаете ли вы, что они должны внести изменения, такие правила игры, чтобы сделать их немного проще, например, быстрее проводить реформы? »Хавьер Милей: Мы пытаемся добиться того, чтобы судебная система сама провела необходимые реформы, чтобы она могла лучше функционировать. «The Economist": На самом деле, как раз по этому вопросу, одно из критических замечаний, которое высказывают люди или некоторые люди, заключается в том, что, например, они утверждают, что Ариэль Лихо, возглавляющий суд, обладает сомнительной честностью, говорят они, например. А также, что за его назначением стоят какие-то, не знаю, договоренности. Что вы ответите на подобную критику? Хавьер Милей: «Послушайте, во-первых, когда вы назначаете кого-то, вы найдете что-то в каждом. Однако, скажем, у него есть знаковые случаи, например, когда он посадил Буду в тюрьму. И Лиджо сделал это, скажем так, из соображений справедливости. С другой стороны, что очень важно, Лиджо - один из немногих людей, которые понимают, как работает судебная система. Он тот, кто может провести реформы изнутри. И не только это, сегодня самые сложные преступления в мире, а это наркоторговля и наркотерроризм, он единственный, кто является специалистом в этой области. Я понимаю, что у некоторых СМИ могут быть проблемы с Лиджо, потому что у них наверняка есть какие-то дела, которые вызывают у них определенный дискомфорт. Так что если они будут оперировать этим, я пойму, но на самом деле все обстоит иначе. «The Economist»: У меня был еще один вопрос по экономике, который я не задал. Если я правильно понимаю, вы ожидаете, что доллары будут преобладать и что песо в конечном итоге исчезнет? Хавьер Милей: Именно. Это также называется «эндогенной долларизацией». Это выглядит так: мы оставляем количество денег постоянным. Денежная база фиксирована. Если ее зафиксировать, то денежная база не изменится, по крайней мере, с середины года точно. Я думаю, что широкая денежная база не менялась с апреля. Но я не знаю, с апреля или с июня широкая денежная база не меняется. Что же происходит? Когда вы увеличиваете спрос на деньги... вы собираетесь ввозить доллары и покупать песо. Да? И что это даст? Это приведет к повышению курса песо. Вы видели, что мы говорили о конвергенции параллельного курса к официальному, но девальвации не было, а было падение цены параллельного курса. При этом в таком контексте по мере роста спроса на деньги традиционная денежная база будет сопоставляться с широкой денежной базой, и как только это произойдет, начнется процесс дефляции. Итак, что же нас мотивирует? Это конкуренция валют, чтобы вы могли использовать другие валюты и не переходили на песо. Итак, предположим, для простоты, что люди хотят начать совершать сделки в долларах. То, что уже разрешено сегодня. Что же произойдет? Когда экономика растет и вам требуется больше денег, когда песо фиксируется, что вы делаете? Вы вливаете в экономику свои собственные доллары. У этого есть два преимущества. Первое заключается в том, что это не приводит к резкому повышению обменного курса. Потому что разница в скорости адаптации финансового сектора по отношению к реальному может привести к массовому банкротству компаний. Поэтому мы поощряем валютную конкуренцию. Чтобы они не переходили на песо, который является дефицитным товаром. Фактически, он фиксирован. Теперь, по мере развития этого процесса, у вас будет все больше и больше долларов по отношению к песо. Наступит момент, когда это соотношение будет настолько велико, количество песо по отношению к песо и долларов по отношению к песо, что в этот момент, если вы захотите, вы сможете закрыть Центральный банк». „The Economist“: И последний экономический вопрос, касающийся МВФ: если я правильно понимаю, в какой-то момент вы ищете новые средства? »Хавьер Милей: Мы оцениваем ряд альтернатив, чтобы ускорить выход из цепо. У нас есть три проблемы для выхода из цепо. Первая - это сближение инфляции. Например, обратите внимание, что последняя цифра - 2,7. 2,5 - это индуцированный показатель, то есть 0,2. 0,2 в годовом исчислении дает 2,5%. Если мы повторим два месяца инфляции около 2,5, мы перейдем к «ползучей привязке» в 1%. Таким образом, если в течение трех месяцев инфляция будет составлять 1,5 %, мы готовы к открытию. Потому что это означает, что денежный навес, который был создан монетарным контролем, исчез. Это первый момент, так что песо больше не осталось. Другой вопрос заключается в том, что широкая денежная база сопоставляется с наблюдаемой денежной базой. И вы можете видеть, как банки сокращают свои позиции в лефи. И именно здесь у нас есть песо Казначейства, то есть те, которые принадлежат Центральному банку. Другими словами, у Казначейства есть песо Казначейства. Другими словами, у Казначейства есть песо, чтобы заплатить за это в Центральном банке. Так что у нас есть деньги, все. Другими словами, это, я имею в виду, суперзащита. Но для этого необходимо, чтобы агенты создали спрос на кредит, чтобы банки вышли из лефи и лекапов и начали держать песо. И еще один момент - мы заканчиваем решать проблему запасов. Нам нужно покрыть некоторые обязательства перед Центральным банком. Я имею в виду, например, Bopreal. Так что, как только мы решим эти три проблемы, я скажу, что я открою его. Ловушка обменного курса. Очевидно, что если я получу финансирование, то решу эту проблему быстрее. И тут есть кое-что интересное, потому что чистый долг не растет. Потому что самый большой кредитор, самый большой кредитор Национального казначейства - это Центральный банк. Так что, очевидно, Казначейство может взять этот долг и выплатить его Центральному банку. Ведь это означает выполнение долга, который Центральный банк имеет перед держателями песо. Так что это было бы огромным сигналом для завершения уничтожения инфляции. «The Economist»: МВФ - это только один из вариантов получения этих средств? «Хавьер Милей: Это только один из вариантов. На самом деле, смотрите, мы уже закрыли финансирование на следующий год. The Economist: То есть нет уверенности, что они будут искать их там. Хавьер Милей: Посмотрим, каковы будут условия. Другими словами, мы не торопимся. Иными словами, чем быстрее мы выберемся из этого, тем лучше. Но мы не собираемся совершать необдуманных поступков, торопясь с выходом. Я имею в виду, что если я получу средства, я выйду. Если я их не получу, я разработаю все условия, чтобы иметь возможность выйти, даже если они не дадут мне денег». „The Economist“: А какого рода неосмотрительности вы опасаетесь, например, в отношении МВФ? »Хавьер Милей: Мы гораздо более осмотрительны, чем то, что требует МВФ. Наша программа намного жестче, чем та, которую планировал фонд. Более того, мы оказались более жесткими, чем планировали сами. Потому что мы, например, рассчитывали достичь фискального баланса в течение года, а достигли его в первый же месяц». „The Economist“: На вас не давят. »Хавьер Милей: На меня не давят. Это будет быстрее, это будет медленнее, но мы знаем, что выйдем. Когда? Я не знаю. Сейчас, если я получу финансирование, я выйду быстрее. Это точно. Но я не собираюсь связывать себе руки и ноги, чтобы получить финансирование. «The Economist»: Но это не создает проблем, например, для привлечения инвестиций сюда, что цепо... «Хавьер Милей: Ноль. И вы знаете, что в следующем году мы выйдем из cepo. За месяц или около того. Я имею в виду, но это неправда, я так говорю. Потому что если вы собираетесь делать инвестиции, то на какой срок вы собираетесь делать инвестиционный проект? «Экономист»: Несколько лет, очевидно. «Хавьер Милей: По крайней мере, 10, 20 лет. А потом вы знаете, что это проблема нескольких месяцев. Так что я имею в виду, на какие инвестиции вы собираетесь смотреть в связи с вопросом о лимите? Это бессмысленно. Другими словами, и на самом деле у вас тоже нет такой проблемы. Потому что, сократив государство на 15 пунктов ВВП, мы генерируем много сбережений, которые пойдут на финансирование частного сектора. Так что это тоже не эффективное ограничение. Нет, вам нужно финансирование... Нет, нам оно не нужно, потому что мы дали частному сектору 15 пунктов финансирования, потому что убрали государство с дороги. Так что, не знаю, в Аргентине многое повторяется и не имеет смысла. Опять же, кто будет беспокоиться о 20-летних инвестициях, если вы знаете, что рано или поздно в 2025 году cepo не будет? «The Economist»: Нет, нет, это ясно. Я хочу задать пару вопросов о журналистике. Например, мне кажется, когда вы разговаривали с моим коллегой год с небольшим назад, вы критиковали Лулу за то, что он не уважает свободу прессы. И сейчас вас критикуют за то же самое. Какой, по-вашему, должна быть роль журналистики в Аргентине? Хавьер Милей: «Хавьер Милей: Нет, нет, скажем так, я имею в виду, опять же, критика, которую отечественная журналистика обрушивает на меня в связи с тем, что я сократил их рекламный бюджет, официальный бюджет, не является нейтральной критикой. Если хотите, мы можем обсудить, что такое свобода слова. Для меня свобода слова означает, что вы можете говорить все, что хотите, все, что вам хочется. А здесь мы этого не говорим, каждый говорит то, что хочет. Так где же проблема? «The Economist: Люди говорят, например, о доступе к правительственной информации, что, как мне кажется, уже немного сложнее. »Хавьер Милей: Давайте посмотрим, здесь есть проблема. Я задам вам вопрос и скажу, откуда он взялся. Считаете ли вы нормальным, что медиа-организация разместила три беспилотника в президентском дворце, чтобы шпионить за мной? Или вы считаете нормальным, что журналист звонит ветеринару одной из моих собак 150 раз за неделю, изводит его и угрожает разрушить его профессиональную карьеру, если он не расскажет ему то, что он хочет знать о состоянии моих собак? Скажите, нормально ли это: «Как вы думаете, нормально ли для журналистов лгать, клеветать, оскорблять, вымогать? Знаете ли вы, что есть журналисты, которые вымогают?» Ну, тогда дело в том, что они как раз требуют, чтобы их монополия на насилие сохранялась. А беспокоит их то, что теперь есть свобода. Теперь каждый говорит то, что хочет. Значит, если вы мне что-то скажете, я... Давайте посмотрим, поскольку я президент, у меня меньше прав или те же самые? «Хорошо, значит, если вы мне что-то скажете, я могу вам ответить». «Ну, но прессе не нравится, когда я им отвечаю. Они говорят, что это насилие. И что? Вы имеете право лгать, клеветать, оскорблять меня, вымогать деньги? Я не могу защищаться. Это то, что журналисты называют свободой слова? Ну, это не похоже на свободу слова. Это похоже на тиранию группы, которая сопротивляется тому, чтобы увидеть власть, которой она обладала исторически. «The Economist»: Но у вас иногда бывает агрессивный стиль в отношении некоторых вопросов, некоторых людей. Я хочу спросить, является ли это частью стратегии, например, которая помогает в достижении больших целей. Не рискуете ли вы создать слишком много врагов? Хавьер Милей: Вопрос в том, что существует руководство по тому, какими должны быть формы. Должны ли вы быть настолько авторитарны, что можете быть только одним способом? «The Economist»: Я просто спрашиваю, если... «Хавьер Милей: Ну, я имею в виду, что у каждого есть свои способы. У меня свои пути, вот они. «The Economist»: Я хочу знать, является ли это частью стратегии. «Хавьер Милей: Нет, это мой путь. „The Economist“: Можно добиться большего. »Хавьер Милей: Тот, кто знает меня 50 лет, знает, что я страстный человек. И я всегда был страстным парнем. Я имею в виду, а что, допустим, есть модель того, какими должны быть люди? Это тоже очень авторитарно. Те, кто критикует формы, способы, тоже авторитарны. Потому что они считают, что единственные правильные формы - это те, которые используете вы. Но есть и другие способы. Скажем, я имею в виду, кто эти журналисты, которые говорят, что «нет, это так», или «у них есть метр, стандарт манер, форм»? Что это такое? Это жестокий авторитаризм. Другими словами, к счастью, мы все разные. Да, они могут делать все по-другому. «The Economist»: Я хотел бы задать пару последних вопросов. Вообще-то, международных. Китайцы продолжили своп-линию, не так ли? 5 миллиардов в июне, кажется. В целом, мне также кажется, что они готовы сотрудничать с Аргентиной. «Хавьер Милей: Мы находимся в... Отношения с Китаем прекрасные. «The Economist»: Что они просят взамен? «Хавьер Милей: Ничего! Это замечательная вещь. Они - замечательный партнер. Они ничего не просят взамен. Все, что они просят, - это чтобы их не беспокоили. Это потрясающая вещь. Это потрясающе. Они сказочные. Клянусь, они ни о чем не просят. Они ни о чем не просят. Они хотят спокойно торговать. И знаете что? У нас взаимодополняющие экономики. Поэтому благосостояние аргентинцев требует, чтобы я углублял торговые связи с Китаем. Почему? Потому что это взаимодополняющие экономики. «The Economist»: А тип правительства в Китае не имеет значения? «Хавьер Милей: Торговля ведется не правительством. Ее осуществляют люди. И вы можете торговать с кем хотите. Так в чем же проблема? И я всегда это говорил, я даже говорил это во время предвыборной кампании. Если вы хотите спросить о моей политической ориентации, то она связана с Соединенными Штатами и Израилем. The Economist: Если вы надеетесь, что хорошие отношения с президентом Трампом могут помочь Аргентине в целом, поскольку мы говорим об инвестициях, МВФ, не беспокоитесь ли вы, что плохие отношения, более сложные отношения, например, с Лулой в Бразилии или Санчесом в Испании, могут немного навредить Аргентине? Мой министр экономики и министр экономики Бразилии подписали соглашение о том, что Аргентина будет экспортировать, что вас волнует? Какое вам дело? Я не обязан быть другом Лулы. Я должен заставить Аргентину и Бразилию торговать. Мне выгодно продавать газ в Бразилию. Готовы? В чем проблема? Я не собираюсь быть другом Лулы, но у меня есть институциональная ответственность. Я отвечаю за защиту интересов Аргентины. «The Economist»: А как обстоят дела с Испанией? «Хавьер Милей: Вопрос в том, что произошло. Сейчас они вернули посла обратно. Он был отозван. И испанская судебная система, похоже, согласна с тем, что я сказал. В любом случае, я защищаю интересы Аргентины. «The Economist»: Думаете ли вы вообще отказаться от Парижского соглашения? Хавьер Милей: Нет. Моя политика в этих вопросах такая же, как и на G20. Я не убираю ноги с плиты, потому что я ничего не блокирую, но я поднимаю вопрос об Аргентине. Вы можете увидеть это в двух моих выступлениях на G20 и в заключительной речи, в которой я объясняю, что не собираюсь блокировать решение G20, но дистанцируюсь от некоторых моментов. Другими словами, я не поддерживаю его. В отличие от других, я не перекладываю ничего ни на чью тарелку. Если вы посмотрите на версию для прессы, она будет совсем другой. «The Economist»: Это интересно. «Хавьер Милей: Это называется отсутствием руководящих указаний. Если бы я дал ориентир этой ерунде, они бы, несомненно, хорошо говорили. Карман. The Economist: Это значит, что мы должны выйти из Парижского соглашения, нет, не должны. Что касается соблюдения того, что уже было подписано в плане снижения выбросов.... «Хавьер Милей: У Аргентины нет проблем, она не является тем, кто загрязняет окружающую среду, поэтому у нее нет проблем с этим. „The Economist“: Я понимаю, что есть некоторые вещи, которые Аргентина должна соблюдать из того, что было заявлено в 2015 году. Это не является приоритетом или как насчет этого? «Хавьер Милей: Я, опять же, не собираюсь придерживаться ничего, что имеет отношение к Повестке дня 2030 или, скажем, 2045. „The Economist“: И почему? »Хавьер Милей: Потому что я не придерживаюсь культурного марксизма. Все эти программы, то есть повестка дня, которую придумали 87 парней, и они настолько смертельно самонадеянны, что думают, будто могут вершить судьбы 8 миллиардов человеческих существ. Если вам нравится, когда вашу жизнь контролируют, хорошо, в моем случае - нет, я либерал-либерал, что я могу сказать? Я имею в виду, что существуют разные формы рабства. Наверное, самая утонченная форма рабства - это когда ты раб и не осознаешь этого. И каждый, кто придерживается этой программы, в итоге становится рабом, сам того не зная. «The Economist: Считаете ли вы, что люди, которые выступают против вас, интеллектуально заблуждаются, немного потеряны или недобросовестны? Какова мотивация? Хавьер Милей: Нет, вы можете думать по-другому. В чем проблема? Я имею в виду, что это часть дебатов. То есть у меня есть позиция, у меня есть основы, на которых я верю в те идеи, которые я отстаиваю, но вы хотите думать по-другому, думайте по-другому, это ваша проблема. Другими словами, я говорю, что если меня избрали, то я думаю так и намерен действовать так. Пока результаты за мной. «The Economist»: Вы находитесь на посту уже почти год... «Хавьер Милей: Я хотел бы отметить один момент. Мы не только снизили оптовую инфляцию с 54% в месяц, 17 000% в год, до 1,2%, что составляет 14% в год, верно? Она не достигает 15%. И уровень экономической активности, измеряемый EMAE, который является ежемесячным оценщиком экономической активности, что является прокси для ВВП, сегодня находится на том же уровне, когда вы взяли ряд стал стационарным, как это было в декабре. -Да. -Что вы хотите от меня услышать? Результаты налицо. В истории человечества не было ни одного человека, который бы сделал эту корректировку и не получил падения ВВП на 10-15 %. В итоге мы окажемся немного выше. Очевидно, что если взять ВВП, учитывая то, как он построен, и тот факт, что экономика падает, то он будет падать, потому что он уже падал в 2023 году. Но если вы возьмете точку, в которой мы заняли пост, то вы находитесь на вершине». „The Economist“: И после года пребывания на посту, что самое важное вы узнали в этой роли? »Хавьер Милей: Я узнал много нового о политике. Я многое узнал о политике. И, скажем так, не заниматься политикой в вакууме. Нужно взаимодействовать с другими игроками. И что, я не знаю, что я знаю, мы работаем с динамическими играми, когда принимаем решения. Другими словами, если вы поместите их в деревья решений, то увидите, что игры можно представить двумя способами, скажем, матричным или экстенсивным. И мы принимаем решения таким образом. Мы часто используем принцип разоблачения, чтобы противопоставить стратегию обществу, разоблачить наших соперников. Это определение, в котором говорится о соперниках, а не о врагах. Вы должны заметить разницу. Потому что, скажем, если бы они были врагами, это подразумевало бы вопрос, скажем, о том, что я не потерплю, чтобы они думали иначе. Соперники - это возможность думать по-другому». „The Economist: Значит, для вас в Аргентине нет внутренних врагов, речь идет только о соперниках“. Хавьер Милей: Речь идет о соперниках, они думают по-разному. Я думаю, что, скажем так, они не хотят, чтобы у страны все было плохо. Они могут быть больше озабочены своими личными целями. Это хорошо видно в касте. Это так, но они не являются диссоциированной динамикой. Проблема в том, что одно дело, если вы делаете это через рынок, через социальное сотрудничество, что приводит к росту благосостояния каждого, и другое дело, если вы делаете это через насильственный, коллективистский путь, что приводит к падению всех. Но я, как таковой, кроме того, думаю так уже 100 лет, поэтому людям трудно измениться. Другими словами, люди не проходят через то, что случилось со мной в тот день, когда я прочитал Ротбарда. Я прочитал статью Ротбарда «Монополия и конкуренция» объемом 140 страниц, и через три часа, когда я закончил ее читать, я сказал: все, чему я учил 25 лет о структуре рынка, неверно. «The Economist»: Откровение. Хавьер Милей: Да, конечно, конечно. Я нашел человека, который был, скажем так, просвещен. И я сказал, что это вот так. И моя жизнь изменилась, и, наверное, можно сказать, что последние 10 лет я прожил лучшие 10 лет своей жизни как либерал. «Экономист»: Мне очень интересен пример Аргентины для всего мира. Многие страны пытались сократить расходы, немного урезать государство. Есть ли чему поучиться? Это урок для всего мира или что-то, что происходит в углу? «Хавьер Милей: Для меня дело в том, что я все еще „аутсайдер“. Я ненавижу государство. Другими словами, я - крот внутри государства. Другими словами, я считаю, что государство - это плохо. Так что это другой взгляд на вещи. И мне не нужно государство как образ жизни. Не то чтобы я отказывался от привилегированной пенсии. Поэтому все мои усилия направлены на то, чтобы создать прекрасное правительство, чтобы по окончании президентского срока я мог посвятить себя зарабатыванию на жизнь, читая лекции об успешном аргентинском примере, которому я глубоко предан. Но, опять же, я принимаю решения, основываясь на том, что считаю лучшим. Для экономики, так сказать, для благосостояния аргентинцев. А не на основе расчета силы, если я немного прибавлю к опросам и базе. Нет, нет, нет. Я даже не притворяюсь, что нравлюсь всем. The Economist: Но чтобы вести переговоры с Конгрессом, например, нужно идти на некоторые уступки. Это тоже часть политики? Хавьер Милей: На самом деле, мы не слишком много уступили. Потому что наш первоначальный пакет реформ состоял из тысячи и 800 были приняты, так что мы не так уж плохо справились. Я имею в виду вещи, которые пришлось убрать, например, авиакомпании. Я имею в виду саму динамику фактов, люди требуют, чтобы мы их приватизировали. «The Economist: Это произойдет? „Хавьер Милей: Без сомнения. “The Economist: Последний вопрос. Недавно я видел некоторые разногласия между вами и вашим вице-президентом. Я хочу спросить, должно ли это немного беспокоить инвесторов, МВФ, например? «Хавьер Милей: Ноль. Потому что это ничуть не говорит о трудностях, связанных с прохождением через Конгресс. Совсем нет. Потому что институциональные роли достаточно четко определены. Я отвечаю за принятие решений исполнительной власти. А, допустим, доктор Вильярруэль отвечает за управление Сенатом. «The Economist»: Да, но когда вам нужен кто-то в Сенате, разве это не сложнее? «Хавьер Милей: Нет, нет, потому что этим занимается руководитель аппарата. Фактически, законы, которые появились, появились благодаря руководству главы администрации. «Экономист»: И еще одно. Доллар, сейчас некоторые люди говорят, что он будет расти, что он будет сильнее с приходом Дональда Трампа. Создает ли это проблему для Аргентины? Хавьер Милей: Доллар растет, а в Аргентине он продолжает падать. «Экономист»: Но и будущее не меняется... Хавьер Милей: Потому что нужно смотреть на относительные денежные условия. Независимо от того, насколько дорожает доллар, прекратят ли США эмиссию или нет? Будут ли они продолжать эмиссию? Ну, Аргентина не эмитирует, и все. Относительные денежные условия говорят вам, что доллар будет продолжать дорожать. «The Economist»: Но, например, такой человек, как Робин Брукс из Брукингского института, говорит, что привязка может быть очень сложной с ростом курса доллара в США, а также в других странах, которые имеют какую-то привязку. «Хавьер Милей: Это не имеет значения, потому что впоследствии мы все равно собираемся..... Мы собираемся перейти к свободному обменному курсу, чтобы существовала конкуренция валют. Но с фиксированным количеством песо. «The Economist»: Его популярность впечатляет. Как вы это объясняете? Хавьер Милей: Потому что он выбирает правду для народа. Назад. Мы, наша кампания была довольно простой. Экономическая политика. Бензопила, были бензопилы? Дерегулирование. Структурные реформы. Переход к валютной конкуренции. И это все. И инфляция. Конечно, следствием всего этого является снижение инфляции, верно? Другими словами, снижается страновой риск. Другое дело - небезопасность. Например, невозможно было покончить с пикетами. Теперь пикетов больше нет. Или количество убийств. Я имею в виду, что оно снизилось на 70 %. «Моя внешняя политика. Что я говорил? Присоединение к Соединенным Штатам и Израилю. Я имею в виду, что все, что я сказал, что собираюсь сделать, я сделал. Я имею в виду, что я иду до конца. Вот что... основа. Кроме того, когда я вступил в должность, я сказал вам: «Слушайте, это вот-вот взорвется. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это не взорвалось». И я объяснил это аргентинцам. То есть, я говорю, ну. И люди это поняли». „А теперь я говорю: “Ну, в апреле экономика нашла точку опоры. Она начала восстанавливаться. Инфляция снижается. Уровень активности уже выше, чем когда мы пришли к власти. Да, вы знаете, что зарплаты, сколько составляли зарплаты в долларах по параллельному курсу в начале нашего правления? 300 долларов. Сегодня она составляет 1100. Да. Реальность такова, что бедность составляла 57%, когда мы пришли к власти. Сегодня она составляет 46%. Мы понизили его на 11 пунктов. «The Economist»: Вы говорите о том, что Аргентина вступает в свой лучший момент за последние 100 лет. Это порождает у людей другие ожидания, не так ли? «Хавьер Милей: Мы выходим из сложного момента. Мы приложили все усилия, чтобы они принесли плоды. И это приносит свои плоды, да. «The Economist»: И там больше нет политического риска, потому что у людей уже есть сверхвысокие ожидания? «Хавьер Милей: Нет, ну, политический риск, я имею в виду, давайте посмотрим, люди хотят продолжать политику прошлого, которая сделала нас бедными, и все, все. Если люди выберут это, они выберут это. Им будет трудно сделать такой выбор, когда они увидят, что все может быть сделано хорошо и они могут жить лучше. «Экономист»: Большое спасибо. Хавьер Милей: Нет, мне очень приятно. Большое спасибо». Телеграм-канал "Новости Аргентины"